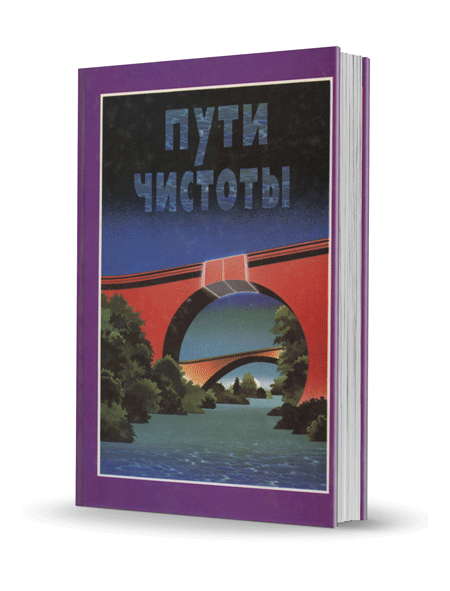Я иду впереди вас
"Даже души, которые не знали меня, уповают на то, что я исправлю их. А вам и вовсе нечего беспокоиться – я иду впереди вас!".

18 тишрея 5784 года (2-3/10 в 2023 г.) исполняется 213 лет с того дня, когда душа раби Нахмана поднялась в высшие миры, чтобы уже оттуда продолжать работу по исправлению душ Израиля (нееврейская дата его смерти – 16 октября 1810). Только с приходом Машиаха откроется, каким образом величайшие праведники поколений подготовили его приход. Но уже сегодня из их трудов мы можем получить некоторое представление об этом титаническом труде…
В ночь четвертого дня Суккот, последнего дня его святой жизни, после полуночи, при нем находились раби Нафтали и раби Шимъон. Я в это время спал: пришел мой черед передохнуть несколько часов. В ту ночь он снова говорил о необходимости исправления душ и повторил, что в Умани пребывает множество душ, нуждающихся в исправлении. Он сказал: “Сколько здесь было казней, сколько здесь было святых!..”
Раби Нафтали спросил его: “Разве в поучении “И сказал Боаз Рут” вы не говорите, что величайший праведник, цадик, способен завершить исправление душ при своей жизни?” И он, благословенна его память, ответил: “Я имел в виду только один из аспектов исправления душ. Чтобы достичь полного исправления нужно отдать жизнь!”
Внезапно он спохватился, как человек о чем-то вспомнивший. Он достал ключ от комода и, вручив его раби Нафтали и раби Шимъону, велел им сразу же после его кончины, как только тело его положат на землю, извлечь из комода его рукописи и без колебаний сжечь их все до одной. Полные смятения, раздавленные горем стояли они перед ним. Шепотом они признались друг другу, что теперь не остается сомнений – он приготовился покинуть этот мир!
“К чему вы шепчетесь, – сказал им наш учитель, – можете говорить о моей кончине, не скрываясь, я не страшусь ее! Если же вы тревожитесь о самих себе, то напрасно: ведь я отправляюсь перед вами. Даже души, которые не знали меня, уповают на то, что я исправлю их. А вам-то уж и вовсе нечего беспокоиться – я иду впереди вас!..” Все это было той ночью, и я в это время спал…
Проснулся я через час после полуночи и сразу же явился к нему. Раби Нафтали и раби Шимъон стояли перед ним, а он сидел в кресле. Раби Нафтали шепотом рассказал мне о том, что произошло ночью: как он передал ключ от комода и велел сжечь все рукописи. Потрясенный, я сказал себе: не остается никаких сомнений – он готовится покинуть нас. Всевышний не допустит этого! Невозможно представить себе, что Всевышний возьмет его из этого мира, когда все так нуждаются в нем…
Я стоял перед ним вместе с раби Нафтали и раби Шимъоном, а он сидел в кресле, смотрел на нас и не произносил ни слова. Обращаясь к раби Нафтали, я прошептал: “Иди, поспи. Ведь ты совсем не спавши”. Но раби Нафтали не желал уходить. Душа его была истерзана тем, что он услышал этой ночью из уст учителя нашего. Обуреваемый любовью к нему и страстным желанием еще насладиться сиянием его святого лица, он хотел оставаться подле него. Однако спустя какое-то время сон стал одолевать его, и он ушел. Да и раби Шимъон прикорнул на полу, здесь же, у кресла учителя. Ушли поспать также и прислуживавший учителю человек и его жена. И только я один остался, чтобы бодрствовать около него, охранять его и служить ему.
Эта ночь была последней ночью в его жизни. Все часы от полуночи до рассвета я находился рядом с ним, не отходя ни на миг, но не удостоился беседовать с ним, потому что не решался ни о чем его спросить. Он же, благословенна его память, – как я понял впоследствии – поистине жаждал, чтобы его расспрашивали и требовали ответов. И он ответил бы нам. Но – а великих грехов наших и от великой любви к нему – мы не решались…
В эту ночь я стоял перед ним, и он глядел на меня взглядом, повергавшим в трепет. Это был взгляд говорящий, равноценный речи. В нем было провидение всего, что мне предстояло испытать – вообще и в частностях. Теперь, что бы со мной ни случилось, я снова и снова осознаю, что он предсказал это мне своим взглядом. Его взгляд говорил: “На кого я оставляю тебя со всеми сокровищами, хранимыми у тебя? Что станется с тобою? Ведь многие поднимутся на тебя! И как совладаешь ты с ними, такой беззащитный?..”
Он попросил уложить его в постель. Я подошел к нему, он склонил голову мне на плечо и оперся на меня всем телом. Я обнял его и поднял, так что ноги его едва касались земли, и перенес в кровать, стоявшую довольно далеко от кресла. Когда я опускал его на нее, он сказал на идиш: “Паволе, паволе!” (осторожнее). Я бережно уложил его в постель, проявляя величайшую осторожность. Его предостережение крайне меня удивило, и он, прочтя в моих глазах изумление, сказал: “Я теперь отяжелел, потому и предостерег тебя”. (Иными словами, человек, приближаясь к смерти, становится тяжелее по мере того, как жизненные силы покидают его. Но я не желал понимать…)
Лежа на кровати, он вновь устремил на меня долгий пристальный взгляд. Тогда я удостоился прислуживать ему совершенно один, я приносил и подавал ему все, что требовалось. Когда я предложил ему хоть чем-нибудь подкрепить свою душу, он спросил: “Что ты собираешься мне дать?” Я сказал: “Немного чаю”. – “Ладно, – сказал он, – с яичным желтком”. (В те дни ему давали чай с желтком – для ослабления кашля.) Я приготовил сладкий чай с яичным желтком и подал ему. Он попросил принести воды для рукоомовения и, совершив его, принял из моих рук стакан с чаем. Чай был еще слишком горячий и мог вызвать кровохарканье. Я взял у него стакан и стал остужать чай, переливая его из стакана в стакан и давая ему пробовать, достаточно ли чай охладился. Когда чай оказался пригодным для питья, он благословил его и выпил.
Как только стало светать, меня охватила радость. Я почувствовал прилив сил оттого, что удостоился вволю послужить ему, проведя подле него несколько часов подряд, – не всякий день я удостаивался этого. И я радовался, не зная и не ведая, что в тот день возьмет от нас Всевышний повелителя нашего.
Рассвело. Пришел человек, прислуживавший ему постоянно, появились другие люди, и я отправился в микву, чтобы совершить омовение перед молитвой. Когда я возвратился, он сидел на кровати, облаченный в талит, и молился. На коленях у него лежал молитвенник Аризаля, в руках он держал этрог и лулав с веточками мирта и ивы. Он читал Алель голосом довольно громким, слова молитвы были слышны всем присутствующим. Блаженны созерцавшие его и внимавшие его голосу, когда он, сжимая в своих святых руках “четыре разновидности растений”, читал Алель и Ошанот в последний день своей жизни. После того, как он завершил молитву, все собравшиеся перешли в смежную комнату и совершили там совместную молитву.
По окончании молитвы я отправился в дом, где ночевал и столовался. Хозяина я не застал и решил было немного поспать до его прихода. Заснуть не удалось, и я достал рукопись последнего поучения, чтобы внести в нее кое-какие уточнения. Появился хозяин и дал мне поесть. Необходимо было поспать, но меня не оставляло беспокойство и я надумал отправиться в дом учителя нашего и спать там. Когда я вошел, в комнате стоял сильный шум, присутствующие были в смятении. Я застал учителя нашего в кресле. Было видно, что его последние силы иссякают, – жизнь покидала его. Со всех сторон тянулись к нему руки людей, пытавшихся, как это принято в подобных случаях, вернуть его к жизни при помощи дорогих благовоний. Напуганный этим зрелищем, я велел немедленно перенести его на кровать, но тут он, благословенна его память, сделал протестующий жест рукой.
Спустя немного времени мне стало ясно, что он едва жив и в кресле ему больше оставаться нельзя. Я снова велел перенести его на кровать, и на этот раз он не стал возражать. Один из присутствующих, житель Травицы, перенес его на кровать. Когда он укладывал его, я взял его святую руку и пожал ее, обняв своими руками. Я вложил в это рукопожатие всю свою нерасторжимую близость к нему.
Наш учитель лежал, облаченный в прекрасное шелковое одеяние. Он велел раби Шимъону расправить на нем одежды, застегнуть пуговицы на рукавах рубашки и убедиться, что они не выглядывают наружу больше чем следует. Потом он попросил смыть с его бороды следы крови. Мы сделали это. И вот он лежал на своем ложе, несравненно чистый, обретший полнейшую свободу. Он держал в руке небольшой шарик из воска, оплывшего на светильнике, и перекатывал его между пальцами. Так делал он часто в те дни, погружаясь в глубокое размышление. В тот предсмертный час его мысль, достигнув чудесной свободы, возносилась к неведомому…
Он лежал на своем ложе. Внезапно до нас донесся нарастающий гул. Это были отголоски пожара, вспыхнувшего на одной из ближайших улиц: гудение пламени, раздуваемого ветром невиданной силы. Под напором бури обрушилась сукка (куща), сооруженная рядом с домом. Присутствующие сорвались с мест и понеслись на пожар. Я же сначала колебался, не желая покидать учителя. Вглядевшись в его лицо и почувствовав, что на короткое время его можно оставить, я побежал на пожар – взглянуть, что происходит. Но не успел я добежать, как пожар прекратился. Всевышний смилостивился над народом Своим, пламя чудом погасло при ураганном ветре. Об этом сообщили мне встречные, и я сразу же повернул назад.
Мы стояли у его ложа. Дом был полон людей. Увидев, что близится кончина, они начали читать молитву за праведников из “Перехода через Ябок”. Вдруг нам показалось, что он скончался, и, сотрясаемые рыданиями, мы начали взывать: “Раби, раби! На кого ты покинул нас?!”
Он услышал наши голоса и поднял голову, обратив к нам свое лицо, выражение которого повергло нас в трепет. Он как бы говорил: “О, нет! Я не покидаю вас, упаси Б-г!”
И вскоре он ушел от нас, чтобы приобщиться к своим отцам в великой святости и чистоте. Сверкающий и чистый, он покинул этот мир без малейшей тени смятения, без единого жеста непокорности, ушел, объятый безмятежностью, внушающей благоговейный страх.
Присутствовали там люди из погребального общества. И все они говорили потом, что видели многих, умиравших в чистоте и при ясном сознании, но ничего подобного им видеть не приводилось.
И это все, что наше жалкое разумение сумело воспринять и запечатлеть. Но истинное значение этой смерти непостижимо. Тот, кто хоть в ничтожной мере осознал его величие, испытав на себе воздействие его трудов, бесед и повествований, знает, что совершенно невозможно говорить о столь поразительном, необыкновенном уходе из этого мира.
Что мне сказать? И как я могу говорить? Чем я могу воздать Всевышнему за то, что удостоился быть там, когда отлетала его душа? Если только ради этого я пришел в этот мир – этого довольно.